Йопт in Translation: кабу
Николай Караев работает переводчиком: он глядит в тексты до тех пор, пока тексты не начинают глядеть в него. Время от времени переживаний набирается на колонку для «Отаку».

Переводчики обожают вчитываться в чужие переводы. И заглядывать при этом в оригинал. Чтобы можно было, сравнив пару абзацев, вознегодовать: «Да елки ж палки! Он(а) совсем дуб, да? Хоть бы в словарь заглянул(а)!..»
Надо сказать, что для таких восклицаний часто находятся весомые поводы. Но сдается мне, что куда полезнее, да и познавательнее анализировать собственные ошибки. Ну или почти-ошибки, которые вполне могли вкрасться в текст, если бы ты вовремя не дал себе по лбу и не повторил в сотый раз главную мантру переводчика: «Стоп, а не дурак ли я?»
Особенно когда переводишь с японского. (Запомнил? Повтори!)
Итак: эта поучительная во всех отношениях история произошла, когда я переводил (с японского, по тексту, милостиво присланному с вершины Фудзи в электронном виде) аниме Макото Синкая «5 сантиметров в секунду». Часть вторая, «Космонавт». У героини, школьницы Канаэ Сумида, есть собачка по прозвищу Кабу. Нормальное такое прозвище, если учесть, что «кабу» — это японский вариант английского «cub» («щенок»). Правда, в японском есть еще одно слово «кабу» со значением «пень», но оно пишется иероглифом, а то «кабу», которое «cub», как и полагается заимствованиям, пишется знаками алфавита «катакана». Японский язык, чтоб вы знали, изнемогает под пятой чудовищной омонимии. Масса японских слов произносится одинаково, а пишется по-разному и означает тоже разное.
В одной из сцен старшая сестра спрашивает у Канаэ: «Заехать за тобой после школы?» «Не надо, — говорит та. — Кабу-дэ каэру».
«Кабу» написано катаканой. «Каэру» значит «вернусь домой». «Дэ» — показатель инструментального падежа: «чем», «посредством чего». «Басу-дэ» — «автобусом», «на автобусе» (от английского «bus»). «Кабу-дэ»… э… «на Кабу». На собачке?!?
Стандартный кошмар переводчика: видимость нулевая, полет нормальный. Ты не понимаешь, о чем речь, и впадаешь в ступор. Достойное аниме превращается в комедию абсурда: японская школьница едет домой верхом на несчастной собачонке. Не бывает. Но что тогда значит «кабу-дэ каэру»?
Я два часа листал грамматики, силясь проникнуть в тайны частицы «дэ». Я изошел холодным потом в думах о японском инструменталисе. Я размышлял долго и мучительно — и придумал… О, какую красивую и логичную теорию я придумал! Суть ее сводилась к тому, что глагол «каэру» акцентирует внимание не на процессе возвращения домой, а на результате, и героиня имеет в виду, что она пойдет пешком, а у дома ее встретит, радостно виляя хвостом, верная псина. «Вернусь домой [пешком и буду встречена] посредством Кабу», — вот что говорит Канаэ. Или как-то так.
Я был жутко горд собой. Настолько, что успел изложить эту проникновенную теорию трем людям, бесконечно далеким от проблем японской грамматики, и все они восторженно кивали головами: как здорово! как сложно! А я скромно так улыбался и поздравлял себя: постигнут еще один аспект дивного японского языка…
Беда в том, что в следующей сцене героиня возвращается домой на скутере. И тут настает черед главной мантры переводчика. Вердикт однозначен: дурак, чего уж. Можно было сразу догадаться, что «кабу» — это японское переосмысление названия модели скутера Honda Super Cub. «Вернусь на „кабе“». И никаких тебе тайн частицы «дэ».
А как же собачка? А никак. Совпадение. Я же говорю — омонимия изуродовала японский язык, как Бог черепаху, про это, кстати, во всех учебниках пишут. И кочует из пособия в пособие чудесный диалог агронома и любителя театра «но»: поскольку «сельское хозяйство» по-японски тоже будет «но», эти двое никак не могут понять, что говорят каждый о своем.
Так про что я? Ах, да: заметил тут в одном аниме вопиющую ошибку переводчика… Ладно, ладно, шучу. —НК




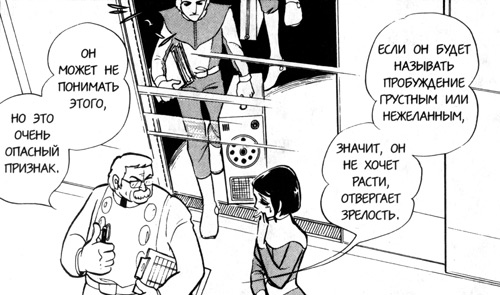





.jpg)

